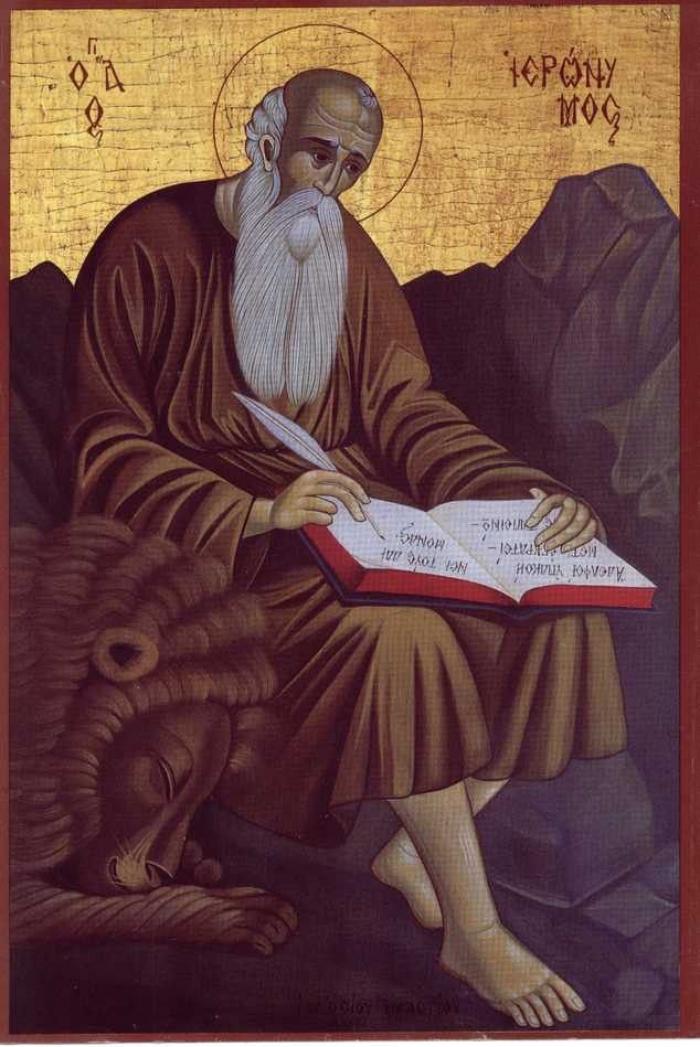Протоиерей Иосиф Фудель, духовенство и общество в последние годы перед революцией
7 марта исполнилось 40 лет со дня кончины выдающегося русского духовного писателя, богослова, философа и литературоведа Сергея Иосифовича Фуделя.
«
С. И. Фудель оставил нам подробные воспоминания и своём отце — протоиерее Иосифе Фуделе. Отец Иосиф совмещал в себе талантливого писателя-публициста и яркого приходского и тюремного священника. Его заметки и письма, наглядно отражающие быт и состояние русского народа и духовенства в последние годы перед революцией, как никогда актуально вспомнить в 100-летнюю годовщину тех событий.

Мой отец умер 15/2 октября 1918 года, но уже с 1915, кажется, года у него завелись кипарисовые четки. Такие они были легонькие и уютные, я и сейчас помню их на ладони. Для «мирского» священника это было, конечно, весьма необычайно: кругом было так называемое филаретовское духовенство. Этот термин, собственно, не имеет отношения к личности самого митрополита, а характеризует только определенную категорию людей. Может быть, при Филарете они были другие, но в этот период — перед и во время первой мировой войны — это были люди, в своем большинстве пребывающие с поразительным спокойствием в каком-то особом сытом благополучии. Есть одно трудное слово у апостола: «Страдающий плотию перестает грешить» (1Пет.4:1).
Плоть большинства батюшек не страдала.
Эра давно умирала. В воспоминаниях
Когда после окончания юридического факультета Московского университета он в 1889 году принял священство, это вызвало бурю со стороны родителей. Маловерие его отца тут вошло в союз с католическим изуверством матери. Успокоить отца оказалось даже легче, чем мать. Передо мною сейчас лежат два письма моего отца к родителям. Письмо к дедушке спокойно и полно различных обоснований правильности выбранного им пути. Характерно такое место: «Вас смущает то, что я хочу быть исключением из общего правила и, будучи юристом, идти в священники; правда, современное общество наше настолько холодно относится к религии, что многим покажется странным, как это человек с высшим образованием оказался и с высшим религиозным чувством. Но это оттого, что наше время такое мерзкое. Лет через 30 все это будет очень обыкновенно, а пока ужасно».
Вот, оказывается, как трудно было стать служителем Христовым в 80-х годах прошлого (XIX-го — прим. ред.) столетия.
Приняв посвящение в Вильне, отец назначен на служение в Белосток, и здесь он сразу же столкнулся с другой стороной медали: духовенство, в которое он попал, приняло его как чужого.
Об этом он пишет в одном письме к К. Леонтьеву от 1890 года: «Здесь (в Белостоке) мы (он с женой) подняли целую бурю, произвели целый переворот в здешнем обществе и вызвали яростные крики против нашего поста. Каковы здесь обычаи, можете судить по тому, что большинство священников в этом храме не знают, что такое пост, и даже Великим постом едят мясо. В оправдание такого порядка вещей указывают на недостаток и дороговизну рыбы
Монастырский оптинский дух, с которым он начал служение, был, конечно, чужим и непонятным… И пост и подвиг, и есть тот оптинский дух, который привез мой отец в Белосток.
Что в этот период (ему было двадцать шесть лет) он был готов и способен говорить не только о посте, но и о Тургеневе, свидетельствует это же самое письмо, при котором он послал свои «стихотворения в прозе». В оправдание этой посылки он пишет: «Переход от великопостных мотивов к лирическим немножко странен и неловок. Но что же делать? Ведь под рясой у меня тоже бьется сердце, и сердце, кажется, довольно чувствительное. Соединение эстетики с религией, казавшееся для меня невозможным, осуществляется теперь в том, что я — священник — во вторую неделю Великого поста посылаю Вам свои «Лирические мотивы».
Окунувшись с головой в пастырскую работу, ему в дальнейшем было уже не до них. Кроме пастырской, шла большая работа в газетах и журналах. За тридцать лет литературной деятельности он участвовал в восемнадцати повременных изданиях и опубликовал около 250 статей и брошюр. Для них характерно полное отсутствие тем политических. Основное и единственное, что всегда держало в напряжении его внимание, это религиозно-культурное развитие личности и общества.
В 1892 году он был переведен в Москву, где еще больше погрузился в литературную работу, хотя эта работа сама по себе никогда не была его целью. В письме от 1891 года к Леонтьеву он говорит:
«Я не забываю, что публицистика для меня не цель, а только средство для проповеди, и если в этой области я найду неблагодарность или «благоглупость», то это пустяки, потому что в других областях своей же деятельности я нахожу громадное нравственное удовлетворение и духовное наслаждение.
Тем-то и велико и хорошо священство, что оно не замыкает дух в одну узкую область, а дает ему свободу воплощаться в самых разнообразных видах: богослужение, требоисправление, проповедь церковная, школьная деятельность, публицистика, духовное воспитание
В краткой формуле можно было бы так охарактеризовать всю совокупность его пастырской, проповеднической, литературной и школьной деятельности: апология чистого христианства. Особенно интересно для тогдашнего времени, что и школьную работу он вел именно так: почти весь урок его ученики или ученицы читали Евангелие, или он сам его читал, пояснял, дополнял параллельными местами. На вопросы по катехизису оставлялись последние минуты перед звонком. Ему, очевидно, хотелось преодолеть
Когда началась революция 1905 года, и большинство пастырей были в смятении, так как слишком долго в их сознании сращивалось тело церкви с больным телом умирающего строя, он сразу нашел правильное слово христианина, отвечающее на вопрос «что делать?». Вернуться к Христу — вот смысл ответа, который он вложил в одну из своих статей этого времени. Он пишет: «Ужас положения растет с каждым днем. Я говорю не о политическом положении страны, не о торжестве той или другой партии и даже не о голоде и нищете, неминуемо грозящих населению. Как пастырь церкви, я вижу ужас положения в том душевном настроении, которое постепенно овладевает всеми без исключения. Это настроение есть — ненависть. Вся атмосфера насыщена ею. Все дышит ею. Она растет с каждым часом: у одних к существующему порядку, у других — к забастовщикам; одна часть населения проникается ненавистью к другой… Чувствуется, что любовь иссякла… И в этом бесконечный ужас положения…
К нам, пастырям церкви, обращаются наши прихожане с неотступной просьбой указать — где же выход, умоляют принять какие-либо меры умиротворения и спасения… У нас есть собственное оружие, которое всегда при нас и единственно только действенно к господствующему чувству. Это средство — общественная молитва к Господу Любви «о умножении в нас любви и искоренении ненависти и всякой злобы»… Что же? Неужели мы не воспользуемся нашим оружием? Или в нас оскудела вера в силу молитвы? Или же мы привыкли молиться только по указу консистории и будем ждать его?..".
Сохранилось еще одно письмо отца от 1898 года к свящ. Евгению Ландышеву, которое является, мне кажется, документом большого церковно-исторического значения. Оно вскрывает то положение, в котором находились истинные служители Слова в конце викторианского века.
«Дорогой во Христе собрат, о. Евгений. Получил Ваше письмо, читал, перечитывал со вниманием и с сердечным сочувствием к Вашей великой скорби. Но отвечать Вам берусь с нерешительностью. Чем могу помочь Вам? Что сказать?.. Несмотря на то, что добрых пастырей (и архипастырей из молодых) очень много… все-таки современное состояние нашего народа так плохо, что нужны неимоверные усилия, неимоверная работа со стороны той части духовенства, которая не изменила своему долгу и призванию, чтобы положить хоть некоторый предел народному разложению… Недостойные пастыри всегда были. И при Златоусте и раньше его на епископских кафедрах сидели сребролюбцы, развратники
«Что же делать?» — спрашивает он себя дальше. И в ответе на это письмо, по-моему, еще более ценно, чем в первой части… Он пишет, соединяя иногда свои слова со словами своего архипастыря Алексия Литовского:
«По моему глубокому убеждению, надо закрыть глаза на все происходящее вне нас и чего изменить мы не можем, углубиться в себя и всецело отдаться своему непосредственному делу. Необходимо прежде всего бодрствовать над самим собой, умерщвлять свои страсти и помыслы греховные, дабы не явиться кому-либо соблазном, и в то же время неленостно исполнять свои обязанности: учить, служить, наставлять. Затем, исполняя свой долг, надо непрестанно помнить, что священство есть величайший крест, возлагаемый на наши рамена Божественной Любовью, крест, тяжесть которого чувствуется сильнее теми иереями, кои по духу таковы, а не по одному названию… Каждый час, каждую минуту приходится им идти согнувшись, приходится терпеть жестокость и непослушание своих духовных чад, насмешки и дерзость отщепенцев Церкви, равнодушие представителей власти, приходится страдать молча, всех прощая и покрывая чужие немощи своей любовью. Таков закон, такова чаша наша.
И «насколько вымирает в ежечасных страданиях естественная жизнь проповедника или пастыря, настолько лишь и только таким путем насаждается жизнь духовная в слушателях, в пастве…».
Больно Вам, обидно, что правды нигде не видите, что все окружающее погрязло в формализме, угасивши свои светочи, — Вы не гасите свой огонь, сильнее его разожгите, бережней храните…
Раскольники песни поют около Вас, когда Вы служите, Вам больно, обидно, — не зовите следователя и земского начальника… прощайте и молитесь о заблудших, заставьте плакать с собой тех, кто с Вами молится, и только этим путем,
только великим страданием сердца, соединенным с великой любовью, Вы растопите ту ледяную кору около себя, которую напрасно стараетесь пробить ударами кулака… Таков закон. Этот закон освятил своими страданиями Сам Искупитель… Но Вы знаете, конечно, что священство есть не только великий крест, но и великое счастье, величайший дар Божий на земле. Оно есть источник неизъяснимых духовных радостей, которые мирянам недоступны, и вот в этой радости иерей Божий почерпает ту силу, которая так необходима ему, чтобы не упасть под тяжестью креста.
В молитвенном подвиге духа, в благодатной близости к престолу Божию почерпает он средство против уныния и обновления духом для продолжения трудов. Нет на земле никакого другого более высшего духовного наслаждения и радости как предстоять престолу Господню и совершать таинство Евхаристии… да не лишит же Господь Бог всемилостивый нас с Вами, честный отче, этого высшего наслаждения духовного до последней минуты нашей жизни! Будем молиться, терпеть, страдать и любить, а дальше — да будет воля Божия".
Вот еще один документ того времени — письмо отца к свящ. М. Хитрову о школьной работе:
«Настала пора отрешиться от мысли о непогрешимости программы церковноприходской школы. Мальчик, окончивший церковноприходскую школу, из всех дивных притчей Спасителя, в которых так осязательно выражено все учение христианское, обязан знать только три! Мальчик, вышедший из школы до окончания ее, ничего не знает о Лице Христа и учении Его, так как запрещается (подчеркнуто в письме) говорить об этом, пока не прошли Ветхого завета. А между тем таких (подчеркнуто в письме) детей большинство, так как в селах не кончают курса до 60% учащихся! С чем же они выходят из школы? Ну не грустно ли все это?».
В 1892 году отца перевели из Белостока священником «Мертвого дома» — московской Бутырской тюрьмы. — и он со всей горячностью своей натуры погрузился в громадную работу проповеди христианства среди заключенных. Это была целая эпоха жизни, продолжавшаяся пятнадцать лет и надорвавшая его силы. Для начала ее характерно письмо его к
«Причина моего молчания очень проста. Я просто-напросто, попав в Москву, завертелся в круговороте дел и забот… Тюремное дело такое сложное дело, что тут не только один священник, но и десять могли бы быть полезными. Это целый мир особых людей, более всего ищущих духовной жизни, помощи… Просто теряешься от той громадной области духовных нужд, какую представляет из себя тюрьма. Ведь здесь постоянно средним числом 2500 человек заключенных! Это целый городок людей духовно больных, людей, наиболее восприимчивых к духовному свету. И вот приходится теряться в громаде дел и впечатлений. Пойдешь по камерам, зайдешь в одну, другую — полдня прошло; как вспомнишь, что еще 45 камер, так и руки опускаются…»
От этого же 1893 года,
«К нам в камеры каторжных стал очень часто ходить наш прелестнейший батюшка о. Иосиф, г-н Фудель, и при всяком посещении давал нам читать различные книги духовно-нравственного содержания… Он по приходе во всякую камеру положительно подвергался, так сказать, нападению со всех сторон наших каторжных арестантов, и каждый желал получить хоть какую-нибудь книгу для чтения… Нелишним считаю заметить, что появление в наших камерах священника был случай не просто обыкновенный, а выходящий из ряда обыкновенных…
Это подтверждают и бродяги, проходящие через Москву в продолжение 10 лет раза по два, по три, которых я нарочно спрашивал: видели ли они когда-нибудь в камерах священника? Они всегда отвечали — нет, не видели никогда, это первый батюшка, который обратил на нас внимание"…
Но любимый каторжниками батюшка, наверное, уже давно вызывал недовольство начальства. Пятнадцать лет такой широкой христианской деятельности, не дожидавшейся «консисторских указов», закончились в 1907 году. Поводом к этому, очевидно, послужил отказ отца ввести политику в свою христианскую проповедь.
Сохранились копии отношений московского губернского тюремного инспектора и ответов на них отца. Первым отношением предлагалось организовать в коридорах тюрьмы беседы на духовно-нравственные темы с обязательным посещением их арестантами. Отец отвечал так: «Духовно-нравственные чтения и беседы велись всегда в тюремной церкви и школе. Вызывались для этого из числа арестантов только желающие, так как я не нахожу возможным принуждать (зачеркнуто более резкое: „насиловать совесть“) кого-либо участвовать в духовно-нравственной беседе, ибо принуждение в этом случае не уменьшает, а укрепляет противорелигиозное настроение, в ком оно есть. В настоящее время такое настроение преобладающее среди каторжников, ибо из них более половины осуждены за политические преступления. Беседа на религиозные темы с такими людьми тотчас же переходит на почву социально-политическую и возбуждает страсти, а не умиротворяет».
Эта переписка велась с февраля по апрель 1907 года, а в конце сентября этого же года «пресветлейший батюшка», как его называли каторжане, не считавший, что проповедь христианства есть «узкая почва», не пожелавший быть «моральным контролером» арестантских помышлений, не умевший «насиловать их совесть», да притом еще служивший «за определенное вознаграждение и при готовой квартире», переехал в маленький и бедный приход на Арбат.
Первые годы после своего перехода из тюремной церкви на арбатский приход он горячо взялся за приходскую работу. В первую очередь привлекла его внимание вся беднота, живущая в приходе. Если в тюрьме людей, во всяком случае, кормили и давали койку, то здесь часто не было и этого, и кто-нибудь мог мечтать о тюрьме, как Сопи в известном рассказе О́Генри (рассказ «Фараон и хорал»).
Через полгода после своего переезда в приход,
В четвертом номере этого же 1908 года уже было помещено следующее объявление: «На мое приглашение в № 3 пожертвовать ненужную одежду откликнулись очень многие. До сего времени пожертвовано 84 вещи: Много роздано бедным, многое еще осталось. Наше приходское попечительство постановило открыть склад одежды для бедных». Просто и понятно. «Особенно нужны валенки». Как, действительно, идти зимой бедному человеку в Царство Божие без валенок?
В 1911—1912 годах был страшный голод в Поволжье, и «Приходский вестник» отражает работу отца по помощи голодающим людям. Сборы средств были начаты в декабре 1911 года, а уже 5 февраля 1912 года отца уведомили, что на собранные им деньги была в Поволжье открыта столовая для питания 36 школьников одного голодающего района. Как сообщалось с места: «Самарским епархиальным комитетом поставлено именовать столовую „имени протоиерея Фудель И.“». Столовая просуществовала сто семьдесят восемь дней. Таким образом, живое дело отец нашел и на Арбате, но все-таки сердце свое, всю основную силу своей горячей воли он оставил в тюрьме. На арбатский приход он пришел уже надорванным от борьбы с косностью, от все усиливающегося чувства духовного одиночества и безнадежности. Это можно заметить даже и по этому «Приходскому вестнику». Он начался бурно в мае 1908 года, дав до конца этого года пять номеров. За весь 1909 год было уже четыре номера. В 1912 году вышел только один номер, а в 1913-м ни одного. Страшное время действовало неумолимо.
В первом номере отец писал: «Люди, живущие жизнью церковной, скорбят о том, что наши приходы и обезличены, и не проявляют даже признаков жизни».
Признаки духовной жизни уже давно замирали везде.
Отец все меньше ведет литературную работу. Правда, много времени отдает изданию собраний сочинений Леонтьева, но это больше долг благодарного ученика, чем творческое дело сердца. Сердце, как я уже сказал, он отдает теперь приходским бедным.
Он начал строить (на банковские деньги) большой доходный дом для церкви. Стройка поглощала все время, сметы, чертежи, контроль, все дела строительные легли на его плечи. Он лазил на леса вместе с архитектором, ездил в банк, писал отчеты. Деятельность новая и небывалая для него била ключом, а душа сохла в строительной пыли. Стройка закончилась в 1913 или 1914 году, а в 1915-м на даче на Сходне он написал свои письма с пометкой: «Открыть после моей смерти».
Вот об одном из этих писем я и хочу говорить… Это было, собственно, не письмо, а какая-то исповедь, в которой он говорил только об одном: как постепенно высыхала у него за последние годы душа и какие страдания он вынес от этой болезни. Он говорил о долгих годах своей жизни, в которой все видели его таким невозмутимым, ласковым, добродушным и не сухим. Больше того: прямыми и честными словами — его путь был всегда прямой и честный — он говорил о том, что тот молитвенный восторг, та духовная радость, которая так часто посещала его в первые годы служения в церкви, только тогда изредка и в малой степени к нему потом возвращалась, когда он как бы силой воспоминания вызывал к себе ее, эту радость «первой любви». Душа у меня постепенно высыхала, умирала духовная жизнь, веяние Святого Духа переставало веять в сердце — вот смысл того, о чем он говорил в этой исповеди, которую мы со слезами страха и любви читали после его смерти.
В конце ее он писал, что с началом войны 1914 года его духовное состояние улучшилось, что душа его опять как-то просветлела.
Предгрозовая атмосфера России кончилась, и началась гроза.
В одной статье еще до 1914 года он писал: «Русская религиозная личность корни свои имеет в монашестве». В последние его годы подземные родники опять омыли эти корни, и он начал готовиться к смерти.
Теперь, вспомнив слова из его письма к о. Евгению Ландышеву от 1898 года: «Да не лишит же Господь Бог всемилостивый нас с Вами, честный отче, этого высшего наслаждения духовного до последней минуты нашей жизни», нам будет ясней видна вся линия его жизни — его вера, его жажда правды и истинного богообщения, болезнь оскудения и его предсмертное выздоровление.
В чем тайна благого влияния священника на людей? Очевидно, в том, о чем кому-то сказал преп. Серафим: «Стяжи мир в душе, и тысячи вокруг тебя спасутся». В отце был ясный луч этого мира, даже в эпоху «высыхания», и он все ярче светил в последние годы, когда появились кипарисовые четки и началось чтение Псалтири… Он не был ни «обличителем», ни «пророком», он был только строителем — себя, других, дома Божия.
Фудель С. И.,
«Воспоминания»
Комментарии
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
или

.jpg)
























.jpeg)