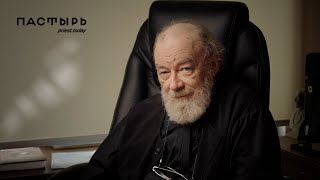Сообщается ли Крещенской воде сила очищения (разрешения) грехов?
В чине малого освящения воды в молитве над водою мы просим Господа, чтобы Он «явил её силою, действом и благодатью Пресвятого Духа, быти всем от неё с верою пиющим, приемлющим же и кропящимся … грехов оставление…»
В своё время, задумавшись над этим и утвердившись в том, что очищение от грехов человек принимает только в таинстве Покаяния, я пришел к выводу, что в данном случае мы просим (и, по всей видимости, воде сообщается такая благодать) именно оставления грехов (т.е. чтобы мы, очистившись от них в таинстве покаяния, больше к ним не возвращались — оставили их). Чтобы Благодать Духа Святого укрепила нашу волю и помогла посредством святой воды оставить (не возвращаться, не повторять) свои грехи.
Но в чине великого освящения воды вложена принципиально другая формулировка в молитвенное прошение! А именно: «…сотвори ю … грехов разрешение… да вси почерпающии и причащающиеся имеют ю ко очищению душ и телес…»
Что в данном случае следует понимать под «грехов разрешение»? Невольно мысль отсылает к разрешительной молитве священника… Так обладает ли по нашему прошению и благодати Божией Крещенская вода свойством очищения (разрешения) грехов, или нет?

Чтобы ответить на заданный вопрос, необходимо проследить историю появления этих молитв в чинах великого и малого водоосвящений.
Слова молитвы: «Явил её силою, действом и благодатью Пресвятого Духа, быти всем от неё с верою пиющим, приемлющим же и кропящимся … грехов оставление…» это слова молитвы «Боже великоименитый…», которая печатается в Требнике в конце чина Малого освящения воды под заглавием «Молитва иная над водою». В современной русской приходской практике при совершении водосвятного молебна эта более краткая молитва часто читается вместо молитвы «Господи Боже наш, Великий в совете…», так как в этой более продолжительной молитве не содержится никаких прошений об освящении воды. Священник Михаил Желтов в своей статье «Водоосвящение» в Православной энциклопедии объясняет это так: «Этим подчеркивается идея малого водоосвящения как освящения воды в первую очередь через физическое прикосновение к святыне. Эта идея традиционна для православной Церкви и находит наиболее яркое выражение в чине литургии Преждеосвященных Даров. Обычай освящать воду через погружение в нее Креста полностью соответствует древней традиции. Для освящения воды в древности могло использоваться не только Честное Древо Креста, но и другие святыни, в первую очередь мощи святых; случаи освящения воды через погружение в нее святых мощей неоднократно описаны в агиографических памятниках. Этот обычай нашел выражение в чине омовения святых мощей, который часто встречается в славянских Служебниках и Требниках до середины XVII века. В чистом виде древняя практика освящать воду без особой молитвы, только через прикосновение к святыне, сохраняется в чине современного Требника „Егда крест творит священник на страсть недуга со святым копием“, где вода освящается просто через погружение в нее копия во время проскомидии» (Водоосвящение / Диак. Михаил Желтов. Православная энциклопедия. Т. 9. М., 2005. С. 146; www.pravenc.ru/text/водоосвящение.html).
На Востоке кроме традиции освящения воды через молитвенное призывание над ней, издревле бытовала и другая практика совершать водоосвящение через погружение в воду какой-либо святыни, которая со временем и привела к формированию византийского чина водосвятного молебна и схожих с им чинов, например, «Чина омовения св. мощей». Это чин представляет параллель чину малого водоосвящения и был очень распространен на Руси до сер. XVII в., но имел скорее частный характер; общецерковно он совершался только один раз в год, в Великую пятницу. Начинается чин с пения тропарей, затем читается молитва «Боже великоименитый…», и завершается священнодействием погружения в воду святыни. В качестве погружаемой в воду святыни в чине омовения св. мощей могли использоваться как мощи святых, так и Древо Креста Господня или другие реликвии Страстей.
В дальнейшем митр. Петр (Могила) исключил из состава своего Требника (Киев, 1646) чин омовения св. мощей, но при этом молитву этого чина «Боже великоименитый…» он использовал в чине «Краткаго воследования освящения воды», составленного им на основе чина омовения св. мощей. В русских изданиях Требника начиная со 2-й пол. XVII в. и вплоть до современных молитва чина омовения св. мощей — сам чин из Требника исключен как не имеющий соответствия в греческом печатном Евхологии — под влиянием южнорусских изданий Требника митр. Петра печатается в конце чина под заглавием «Молитва иная над водою» (Там же. С. 146).
Немаловажно и ещё одно упоминание о молитве «Боже великоименитый…» в греческих рукописях Евхология (напр., Sin. Gr. 982) под названием молитвы «над водою… во исцеление болящего и в защищение дома», которое представляет собой краткое молитвенное последование, совершавшеея в домах больных — можно с сравнить со словами в молитве современного Требника: «…прогнание всякаго зла, умножение добродетелей, болезнем исцеление, домовом же и всякому месту освящение и благословение, губительных и всяких злотворных воздухов отгнание, и благодати Твоея присвоение» (Там же. С. 144). Это ещё одна древняя традиция Церкви — освящение воды для сообщения ей целебных свойств, а также различные экзорцизмы над водой для придания ей апотропеических качеств (т. е. способности отвращать действие нечистых духов). Сохранился ряд молитв водоосвящения такого рода, например, молитвы на освящение воды и елея для таинства Елеосвящения. Главным же содержанием церковных священнодействий и чинопоследований врачевания являются прошения, обращенные к Богу об исцелении больного от физических или душевных заболеваний, а также о прощении его грехов, которые могли послужить их причиной. Вот почему в этой молитве и звучат слова: «даруй ей благодать и благословение Иорданово, и силу вся скверны очищающую, и всяк недуг исцеляющую, и бесов и всех наветов, и козней их прогонительную… И яви ю силою, действом и благодатию Пресвятаго Духа, быти всем от нея с верою пиющим, приемлющим же и кропящимся рабом Твоим, грехов оставление, изменение страстем, прогнание всякаго зла, умножение добродетелей, болезнем исцеление» (См.: Врачевания чины /
Что же касается прошения "…сотвори ю … грехов разрешение… да вси почерпающии и причащающиеся имеют ю ко очищению душ и телес…" в молитве «Велий еси, Господи…» в чине великого освящения воды, то, как известно, она используется не только на праздник Богоявления, но и в последовании таинства Крещения. «Вернее, у богоявленской и крещальной молитв полностью совпадают начало и середина, а различаются только окончания. Общее происхождение крещальной и богоявленской молитв тем самым несомненно» (Происхождение и содержание чина великого освящения воды на праздник Богоявления / Свящ. Михаил Желтов. Православие.ru; www.pravoslavie.ru/76587.html).
Давайте сравним приведенный в вопросе фрагмент молитвы великого освящения воды с молитвой чина таинства Крещения и убедимся, что они полностью тождественны:

Вот отсюда и крещальный характер некоторых выражений молитвы великого освящения воды с прошением разрешения грехов (а в таинстве Крещения даруется полное прощение всех грехов) и экзорцизмом, как и в молитве врачевания.
Кроме того, центральная молитва Богоявленского чина «Велий еси, Господи» целенаправленно написана так, чтобы отражать структуру анафоры, то есть центральной молитвы главного христианского богослужения — евхаристической Литургии, и связь этой молитвы с чином Евхаристии несомненна.
Поэтому и великая агиасма, освященная со словами этой молитвы, традиционно считалась святыней, приближающейся по значению к Святым Дарам, принятие которых согласно вере Церкви, выраженной в литургических текстах, совершается во оставление грехов и в жизнь вечную. Как замечает свящ. Михаил Желтов, «в древнерусской практике к приобщению великой агиасме в дни помимо Богоявления молитвенно готовились, само приобщение могло предваряться исповедью и происходило по специальному чину. Отсюда же и старинный обычай употреблять великую агиасму строго натощак. В дониконовских изданиях церковного устава говорилось даже, что богоявленскую воду можно использовать для окропления не более трех часов после ее освящения, а дальше следует относиться к ней как к Святым Таинам, а именно: если куда-либо капнет даже одна капля великой агиасмы, „место то углем горящим да изжжется или да истешется, и в воду вмещется“, а если упадет на одежду („на ризу уканет“) — „да изрежется и в непроходимая места полагается“. В ходе богослужебной реформы второй половины XVII века эту чрезмерно ригористическую практику было решено смягчить, результатом чего стало исключение процитированного фрагмента из русского издания Типикона 1682 года» (Велий еси, Господи. О чине Богоявленского освящения воды / Священник Михаил Желтов // Журнал Московской Патриархии. № 1. М., 2022. С. 12−25; www.patriarchia.ru/db/text/5888183.html).
Согласно мнению многих святых отцов (см.: Прощение грехов только на исповеди / Свящ. Вадим Коржевский; www.kiev-orthodox.org/site/spiritual/4760/#_ftn1) и вере Церкви, выраженной в её богослужебных текстах, очевидно, что «очищение от грехов человек принимает не только в таинстве покаяния» и исповедь не является единственным и незаменимым средством очищения грехов, допускаемых после крещения.
Протопресвитер Александр Шмеман писал об этом так: «Так или иначе, в основе своей, по существу, таинство Покаяния как таинство Воссоединения с Церковью, совершалось лишь над теми, кто был отлучен от Церкви за определенные грехи и проступки, точно перечисленные в каноническом Предании Церкви. Об этом и сейчас еще свидетельствует подлинная разрешительная молитва: примири и соедини его со святой Твоей Церковью во Христе Иисусе Господе нашем… Это совсем не значит, однако, что неотлученных, верных Церковь считала безгрешными. Во-первых, Церковь никого из людей, кроме Пресвятой Богородицы, никогда не считала безгрешными. А во-вторых, соборное, литургическое исповедание грехов и мольба об их прощении входит и в молитву Трисвятого, и в молитвы верных на литургии. И наконец, само причащение Святых Тайн Церковь всегда воспринимала как совершающееся во оставление грехов. Поэтому дело тут не в безгрешности — которую не дарует и никакое отпущение грехов — а в различии, которое всегда делала Церковь между, с одной стороны, грехами и актами, отлучающими человека от благодати жизни Церкви, а с другой, той греховности, которой неизбежно подвержен каждый человек плоть нося и в мире живя, но которая как бы растворяется в собрании Церкви и о прощении которой и молится Церковь в молитвах верных, читаемых перед преложением Святых Даров. Ведь и перед самой Святой Чашей, в самую минуту причащения просим мы о прощении прегрешений вольных и невольных, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением и верим, что в меру нашего раскаяния получаем его (Исповедь и причастие / Прот. Александр Шмеман // Собрание статей, 1947−1983. М.: Русский путь, 2009; azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/ispoved-i-prichastie
«Таким образом, уже с древности, — замечает уже прот. Владимир Воробьев, — Церковь знала, что существует разница между совершением Таинства покаяния и покаянием обычным, ежедневным, постоянным, которое должно быть в душе человека. И такое покаяние должно быть обязательно и в Литургии, и в наших утренних и вечерних молитвах. Мы должны всегда каяться за каждый свой грех, за большой и за маленький, должны трудиться над собой. Но это еще не значит, что должно совершаться специальное Таинство покаяния» (Воробьев Владимир, проф., прот. Введение в литургическое предание Православной Церкви. — М.: ПСТГУ, 2005. — С. 103).
Кстати, если говорить о молитве как таковой, то и она одна уже может быть достаточным средством к очищению грехов, почему и встречаются в святоотеческой письменности наставления, например, как у великого учителя Церкви: «Великий [путь] покаяния ты имеешь в милостыне, которая может освободить [тебя] из уз греховных; но есть для тебя и другой путь покаяния, также весьма удобный, чрез который может освободиться от грехов. Молись каждый час, не изнемогай в молитве, и неленостно умоляй человеколюбие Божие, а Бог не отвратится от постоянно молящегося, но простит тебе грехи твои и исполнит прошения твои» (Св. Иоанн Златоуст. Творения. Т. 2. Кн. 1. Беседы о покаянии. 3. § 4. С. 331). Мало того, молитва имеет еще и ту особенность, что может добиться очищения не только своего, но и чужого греха, так что если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь (1Ин. 5. 16). На этом способе основываются и совершаемые в Церкви Таинства Исповеди (Ин. 20. 23) и Елеосвящения (Иак. 5. 14−15). (О «новых» или давно забытых старых способах очищения грехов / Свящ. Вадим Коржевский; www.kiev-orthodox.org/site/spiritual/4769/).
Да и зачем тогда на богослужении и в молитвах — молитве Господней «Отче наш» или «Ослаби, остави…» и многих других — постоянно упоминается о грехах, «согрешениях», «прегрешениях», а в молитве на просительной ектенье мы просим «прощения и оставления грехов и прегрешений», если не верим в такое прощение? Зачем в молитве об усопших просить Господа простить им их грехи, если они не могут принести покаяния в таинстве Исповеди?
В основе литургической жизни положен принцип: lex credendi est lex orandi — закон веры есть закон молитвы или, перефразируя, — мы молимся так, как верим, и верим так, как мы молимся, и о чём просим, то и надеемся от Бога и получить. А если не верим в то, что просим в своей молитве, то и не понятно тогда, зачем просим об этом, и зачем вообще нужна такая молитва.
Комментарии
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
или
Вполне возможно считать это прошением о разрешении повседневных грехов, которые не требуют исповеди. Каждый добродетельный акт служит к очищению таких грехов.
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
или
 Митрополит Константин (Островский), Йоханнесбург
Митрополит Константин (Островский), Йоханнесбург
Вопрос молитвы о некрещённом родственнике трудный, потому что никаких... Продолжение
 Епископ Антоний (Азизов), Волгодонск
Епископ Антоний (Азизов), Волгодонск
 Протоиерей Феодор Бородин, Москва
Протоиерей Феодор Бородин, Москва
 Протоиерей Владимир Воробьев, Москва
Протоиерей Владимир Воробьев, Москва
.jpg)
.jpg) Протоиерей Димитрий Пашков, Москва
Протоиерей Димитрий Пашков, Москва
Вопрос кажется несколько искусственным. Дело в том, что, если ребенок... Продолжение
 Митрополит Константин (Островский), Йоханнесбург
Митрополит Константин (Островский), Йоханнесбург
 Протоиерей Феодор Бородин, Москва
Протоиерей Феодор Бородин, Москва
 Епископ Антоний (Азизов), Волгодонск
Епископ Антоний (Азизов), Волгодонск