Театрально-световые эффекты в храме
Раз уж заговорили о богослужении и запели Постную триодь, хочу спросить, как собратья воспринимают практику включения-выключения, еще включения-выключения, и снова включения паникадил при пении полиелея, На реках Вавилонских, чтения Евангелия, и пения «Покаяния отверзи ми двери…»?
Оправданы ли такие эффекты? Ведь они не имеют никакого обоснования. При паникадиле со свечами/лампадами такое невозможно. Помогает ли это молитве?
Вопрос поступил в феврале 2019 года, но вновь поднят наверх после получения очередного экспертного мнения

Свет в храме в определенные моменты богослужения создает торжественность службы, показывает особенность происходящих моментов богослужений.
Но, конечно, нехорошо, когда светом начинают пользоваться действительно как светомузыкой, включая и выключая очень часто, по собственному желанию.
Комментарии
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
или
Мне представляется важным, чтобы традиции сохранялись, по возможности, неизменными. Чтобы старое не отменялось, если оно не греховно и не ложно и для отмены нет каких-то особенных причин. И чтобы новое не придумывалось, а рождалось в церковной жизни как дар Божий. Это касается и освящения храмов, и пения, и икон, и утвари.
Ничего не имею против афонской традиции раскачивания паникадила, но пусть там и раскачивают; афонские отцы привыкли — им это не мешает молиться; может быть, даже помогает. А если у нас в храме вдруг начнут раскачивать светильники, то мы всем приходом откроем рты и начнём глазеть на диковиное действо, забыв о службе. А если на Афоне перестать раскачивать, то, пожалуй, монахи смутятся — тоже не на пользу пойдёт.
«Свет в храме в определенные моменты богослужения создает торжественность службы, показывает особенность происходящих моментов богослужений» (владыка Вениамин). Это и так, и не так. В зависимости от того, о каком именно свете идёт речь?
Естественном? Да. Он освещает храмовое пространство с разной интенсивностью — «прежде солнечнаго захождения», «по еже заити солнцу мало», в полунощи, на рассвете, в полдень, в часы 1й, 3й, 6й, 9й. Однако особенным образом устроенные окна в храме НИКОГДА, ни в какое время суток и года не позволяют свету естественному отменить ещё один источник света в храме — свечи и лампады.
Если реплика владыки об этих последних, — паки аминь. Указания Типика относительно возжигания свечей и лампад весьма немалочисленны: «должно есть вжигати свещи́», «и пред Владычним образом в тябле, аще имать святый бдение», «в начале же Святаго Евангелия вжигати вся свещи и оставляти горети до заамвонныя молитвы» и мн. др. и вполне определённо говорят о взаимосвязи количества светильников и степени торжества.
Но если говорить об электрическом свете, о каковом собственно и был задан вопрос, то, по мне, утверждение владыки Вениамина к нему никак нельзя отнести. Ну или почти никак. Потому что функцию электрического света не удаётся поднять до символической, она остаётся исключительно утилитарной. Во всяком случае в храме. На Новом Арбате, на каких-нибудь «ледовых шоу», на рок-концерте — да, пожалуй, свето- и цвето-эффекты артистичны и даже претендует на известный символизм (в бытовом понимании этого слова), но в храме… Уж больно грубая это стихия и соревноваться с живым мерцанием лампад, подвижным пламенем свечей, отражениями на фресках, мозаиках, металле, стекле ну никак не может. Попытки иллюстрировать покаяние, изгнанничество, ликование включением/выключением «люстры» нелепо и карикатурно, как, например, нелепо и безобразно на тот же «Свет Христов» взять и включить электрический свет (мне скажут, — когда-то здесь вносили светильник и проч. и проч., но как бы то ни было эта свеча давно осмыслена как икона Света Истинного, т. е. как символ, а прикладное её назначение утрачено). Так же нелепо ходить с каждением на 103 псалме с фонариком. Или, как предлагал некогда один гиперсовременный игумен (некто иг. Иннокентий (Павлов)) — вместо свечей и подсвечников делать лампочки, бросил монетку, лампочка и зажглась… (такое нередко можно увидеть на Западе).
Даже в качестве фона электр. свет способен погубить те — уже упомянутые и другие — редкие световые образы, что ещё сохранились в приходском богослужении: светильник на Предначинательном псалме, свеча на «Свет Христов», преднесение свечи на херувимской, Рождественская свеча и др. Эти символические светы «тонут» в ярком, «вокзальном» освещении и не «работают» должным образом.
А уж попытки электрическим лампочкам взять на себя символические функции, повторюсь, нелепы и карикатурны… Ну м.б. только в самом первом приближении и только в одном случае: когда все они погашены (например, на 6-псалмии). К этому как раз, думается, и стремятся упомянутые иг. Всеволодом «собратья». А уж то, что затем приходится снова включать электричество, суть издержки привычки: мы привыкли быть (в смысле бытовать) при свете (как и — при шуме и изображении: повсеместно и непрерывно бубнящее радио, мелькающий тв-ящик), в то время как на том же Афоне норма — полумрак, а уж он расцвечивается (и рассвечивается) так или иначе в зависимости от праздничности службы.
Самоочевидно, что общий свет мешает покаянной сосредоточенности тропарей Триоди (как в течение всего года псалмам 6-псалмия — этого «маленького Великого Поста») — «покаяния бо псалмы исполнены суть и умиления… яко самому Богу невидимо беседующе и молящеся о гресех наших… очи имуще долу, сердечныма очима зряще к востоком, молящеся о гресех наших, поминающе смерть и будущую муку и жизнь вечную». А если не самоочевидно, то обращаемся к традиции (по-русски: преданию), зафиксированной в Уставе: «свещи угашати по конечном Трисвятом», т. е. как раз к 6-псалмию.
Функция электричества, как сказано, утилитарная: освещать страницы книг (т.н. фаносы на том же Афоне направлены строго на раскрытую книгу, свет их не рассеивается, и даже они угашаются, как только пение/чтение переходит на другой клирос), столик, где пишут записки, ну «вход-выход» и т. п., ведь современный городской храм освещается ещё и для безопасности, есть нужда организовать большое числа прихожан, часть из которых случайны-впервые-растерялись-дети разбежались и т. д. и т. п.
Но иллюстрировать — нет. Только «иллюминировать».
Отмечу также, что возжигание/угашение настоящего паникадила и прочих свечей на том же Афоне не одномоментно: щёлк — и сразу много света, чик — и темно. Пока учиненные монахи возжгут/погасят все свечи… Храм наливается светом постепенно (как рассвет) и угасает свет постепенно (закат).
Мы у себя заменили все выключатели диммерами, чтобы хоть как-то сгладить углы, смягчить перепады освещения, раз уж никак нельзя от него отказаться. И стараемся поменьше да пореже «щёлкать». Когда-то тоже пытались что-то иллюстрировать, да давно оставили эти опыты.
Интересующихся отсылаю к давнишней статье Михаила Юрьевича Кеслера «Свет в архитектуре православного храма» kesler.ortox.ru/2013/01/09/svet-v-arxitekture-pravoslavnogo-xrama/,
а в качестве дополнения к приведённым в ней цитатам помещаю — прося прощения за объём — обширную выдержку из А. Ф. Лосева (5я гл. «Диалектики мифа»), при всём экстремизме его суждений, нельзя не признать известной их меткости:
«Определённую мифологию имеет солнечный свет. Определённая мифология принадлежит голубому небосводу. Зелёный цвет деревьев, синий цвет далёких гор, лиловатый и красноватый цвет зимних сумерек, — всё это я мог бы изобразить здесь в подробном и наглядном виде. Однако увлекаться этим не стоит в очерке, преследующем одни лишь принципиальные цели. Можно разве указать на мифологию электрического света, так как поэты, спокон веков воспевавшие цвета и цветные предметы в природе, покамест ещё недостаточно глубоко отнеслись к этому механически изготовляемому свету. А между тем в нём есть интересное мифологическое содержание, не замечаемое толпой лишь по отсутствию вкуса и интереса к живой действительности. Свет электрических лампочек есть мёртвый, механический свет. Он не гипнотизирует, а только притупляет, огрубляет чувства. В нём есть ограниченность и пустота американизма, машинное и матёрое производство жизни и тепла. Его создала торгашеская душа новоевропейского дельца, у которого бедны и нетонки чувства, тяжёлы и оземлянены мысли. В нём есть какой-то пафос количества наперекор незаменимой и ни на что не сводимой стихии качества, какая-то принципиальная серединность, умеренность, скованность, отсутствие порывов, душевная одеревенелость и неблагоуханность. В нем нет благодати, а есть хамское самодовольство полузнания; нет чисел, про которые Плотин сказал, что это — умные изваяния, заложенные в корне вещей, а есть бухгалтерия, счетоводство и биржа; нет теплоты и жизни, а есть канцелярская смета на производство тепла и жизни; не соборность и организм, но кооперация и буржуазный по природе социализм. Электрический свет — не интимен, не имеет третьего измерения, не индивидуален. В нём есть безразличие всего ко всему, вечная и неизменная плоскость; в нем отсутствуют границы, светотени, интимные уголки, целомудренные взоры. В нём нет сладости ви́дения, нет перспективы. Он принципиально невыразителен. Это — таблица умножения, ставшая светом, и умное делание, выраженное на балалайке. Это — общение душ, выраженное пудами и саженями, жалкие потуги плохо одарённого недоучки стать гением и светочем жизни. Электрическому свету далеко до бесовщины. Слишком он уж неинтересен для этого. Впрочем, это, быть может, та бесовская сила, про которую сказано, что она — скучища пренеприличная. Не страшно и не гадливо и даже не противно, а просто банально и скучно. Скука — вот подлинная сущность электрического света. Он сродни ньютонианской бесконечной вселенной, в которой не только два года скачи, а целую вечность скачи, ни до какого атома не доскачешься. Нельзя любить при электрическом свете; при нем можно только высматривать жертву. Нельзя молиться при электрическом свете, а можно только предъявлять вексель. Едва теплющаяся лампадка вытекает из православной догматики с такой же диалектической необходимостью, как царская власть в государстве или как наличие просвирни в храме и вынимание частиц при литургии. Зажигать перед иконами электрический свет так же нелепо и есть такой же нигилизм для православного, как летать на аэропланах или наливать в лампаду не древесное масло, а керосин. Нелепо профессору танцевать, социалисту бояться вечных мук или любить искусство, семейному человеку обедать в ресторане и еврею — не исполнять обряда обрезания. Так же нелепо, а главное нигилистично для православного — живой и трепещущий пламень свечи или лампы заменить тривиальной абстракцией и холодным блудом пошлого электрического освещения. Квартиры, в которых нет живого огня — в печи, в свечах, в лампадах, — страшные квартиры».
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
или
 Митрополит Константин (Островский), Йоханнесбург
Митрополит Константин (Островский), Йоханнесбург
Вопрос молитвы о некрещённом родственнике трудный, потому что никаких... Продолжение
 Епископ Антоний (Азизов), Волгодонск
Епископ Антоний (Азизов), Волгодонск
 Протоиерей Феодор Бородин, Москва
Протоиерей Феодор Бородин, Москва
 Протоиерей Владимир Воробьев, Москва
Протоиерей Владимир Воробьев, Москва











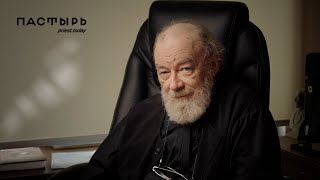

.jpeg)
















.jpg)
