 Анонимный вопрос
Анонимный вопрос
Записки «простые» и «заказные». Как относиться к разным практикам?
Сегодня во многих храмах различаются «заказные» и «обычные» записки, и существуют разные практики поминовения по ним: в одних храмах заказные записки прочитывает сам священник, вынимая частицы за каждое имя, остальные просто читают рядом алтарники; в других храмах заказные попадают на проскомидию, а простые минуют её (остаются, например, на молебен); в третьих — записки вовсе не разделяют. Кроме того, существует множество различных вариацией с поминовением «заказных» на сугубой ектенье, выдачей за них просфор
— Как вы относитесь к практике такого разделения записок, и в чём должна заключаться разница между обычными и заказными записками?
— Обязательно ли все записки должен прочитывать священник или в этом вполне могут помогать алтарники?
— Стоит ли, по вашему мнению, более серьезно поднять вопрос поминовения записок на общецерковном уровне или его можно оставить на усмотрение каждого настоятеля?
Вопрос поступил в июле 2018 года, но вновь поднят наверх после получения очередного экспертного мнения

Комментарии
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
или
— Стоит ли, по вашему мнению, более серьезно поднять вопрос поминовения записок на общецерковном уровне или его можно оставить???
ДАВНО ПОРА И ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ, УЧИТЫВАЯ ПРИ ЭТОМ МНЕНИЯ СВ. ОТЦОВ И ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ! ТАК КАК ИЗ-ЗА РАЗНОМЫСЛИЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ ЧАСТО ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ И НЕДОРАЗУМЕНИЯ!
И полезно ли любому человеку поминать сотни имён ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ, выпадая из него умом и сердцем, отделяясь от общества молящихся?
Мне кажется, с заказными записками произошла подмена понятий. Раньше, когда богослужение не совершалось ежедневно нигде, кроме соборных храмов и крупных монастырей, было понятие «заказная литургия», то есть такая, которую служил священник по «заказу» (то есть просьбе) отдельных прихожан вне расписания в памятные для них дни: именин, рождения, смерти и т. п.
Такая практика до сих пор сохраняется в Закарпатье: воскресенья и праздники — для всего прихода, а будние дни расписаны на много дней вперед отдельными семьями под «заказные» службы.
Пожертвование за такой «заказ» естественно было больше: нужно было и хор оплатить, и свечи, и просфоры, и вино (или принести самим и спеть самим).
Таким образом, в современных условиях большого городского храма с ежедневным или почти ежедневным богослужением понятие «заказного» поминовения теряет всякий смысл, а для отдаленной местности могло бы еще иметь, но при нехватке священников в сельских приходах тоже неактуально — хорошо, если один раз в месяц бывает богослужение.
То же самое касается «заказного» молебна. Если водосвятие и так совершается ежевоскресно, все поминовения за таким молебном одинаковы по своему смыслу. А если прихожане в частном порядке просят совершить молебен во внеурочное время, это и есть «заказной» молебен.
Вместе с тем, в приходской практике мы часто сами выделяем тех или иных людей гласным поминовением за литургией: например, если в храме стоит покойник — как можно не подойти и не произнести над ним заупокойную ектению? Служить литургию и делать вид, что покойника в храме нет? А на панихиде гласно прочитываем имена тех, чьи родные пришли их помянуть.
Думаю, что намного правильнее не делить записки по разрядам, а поддерживать в прихожанах желание указывать при именах особые нужды (день операции, день рождения, день смерти и т. п.), а вдумчивый пастырь сам определит, каким способом отреагировать на эти сигналы «снизу».
Конечно, приятно, когда из твоей просфоры за каждое имя вынут по частичке. И приятно слышать, как твою записку диакон или священник громко, с чувством и разборчиво возглашает на ектенье. А если не услышал поданной записки, то неприятно. И неприятно, когда гложет сомнение, а ну как священники не всех поминают в алтаре.
Но, пока мы погружены в свои приятности и неприятности, смущения, сомнения, помыслы, в храме Божием (маленьком или большом, в деревне или в столице) совершается одна и та же Божественная литургия, за которой вся Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь собирается у Престола Божьего и причащается Святых Христовых Тайн. При этом поминаются не только те, за кого служащее духовенство вынуло частички из просфор. За Литургией поминается вся Церковь. Это непреложно, на это не влияют наши немощи и вообще ничто земное.
В молитве, которой завершается чин проскомидии за Божественной литургией, говорится (в переводе на русский): «Помяни как благой и человеколюбивый тех, кто принесли, и тех, ради кого принесли (имеются в виду люди, принесшие дары, то есть хлеб и вино для совершения службы, и те, в память о ком, то есть с молитвой о ком принесены дары), и также сохрани неосуждёнными нас, совершающих священнодействие Божественных Твоих Тайн». Из других молитвословий проскомидии ясно, что дары приносятся не только за прихожан конкретного храма, но и за всех православных христиан, живых и усопших, в том числе всех Святых.
Зачем же тогда люди пишут записки? Записки это форма молитвы человека о его близких и о самом себе, в этом проявляется его участие в Общем Деле («литургия» означает «общее дело»), в жизни Церкви — Тела Христова.
Проблема каждого из нас не в записках и частичках, а в том, чтобы не лишиться своей части за Священной Трапезой. Но, по словам апостола Павла, «кто отлучит нас от любви Божией» (Рим. 8, 35)? «Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 39). Никто не может нас лишить участия в Божественной Трапезе… кроме нашего греха.
Сидит старушка дома, пишет записки на Литургию, скорбит о маловерных родственниках, живых и усопших, желает им вечного спасения, подаёт записку «за ящик», делает посильное пожертвование на храм, молится за Литургией, причащается Святых Христовых Тайн. И эти старушкины скорбь и молитва, и причастие делают её причастницей Жизни Вечной, а заодно таинственным образом делают не чуждыми этой Жизни и тех, о ком она скорбит и молится, и пишет записки.
Может быть, сама старушка не без греха, но вспомним притчу из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Там умершей грешнице, кипящей в огненном озере, ангел-хранитель протянул луковку и за эту луковку стал вытаскивать её из ада. А за грешницу уцепились и другие грешники, и все могли бы спастись. Так и старушка, пусть и немощная духовно, но цепляется своей верой, как луковкой, за Вечную Жизнь и может своими простодушными записками «о здравии» и «о упокоении» других грешников тоже приобщить Вечной Жизни.
Но вот она задумалась: «А читают ли мою записку в алтаре? А вынимают ли батюшки частички из моих просфорок?» И от этих суетных помыслов спасительная луковка увядает и может оборваться, если человек, конечно, не покается в своих недобрых подозрениях.
Что касается действий служащего Литургию священника, то, если он любит своих прихожан, желает им спасения, молится за них, то благо ему, а если немощен в любви, пусть кается. А прихожанам нужно молиться за своих батюшек и не осуждать их, чтобы и самим не подпасть осуждению. И, уж если Бог доверил священнослужителям совершение Божественных служб, не будем предаваться подозрениям, чтобы не уподобиться ветхозаветному Хаму, который подглядывал за своим отцом.
Молитва или бесценна, или вообще ничего не стоит. Я взял записку и прочитал: «о здравии Марии» — за что здесь брать деньги? Дело любви не может мериться деньгами. Соответственно, люди, которые стоят за свечным ящиком как церковные служители тоже должны так рассуждать.
Но нам, «продвинутым» в церковном отношении, нужно быть осторожными в суждениях. Вот, человек спрашивает, сколько стоит причаститься или окрестить младенца. Звучит это неприятно, а в душе у него, возможно, все не так плохо. Просто он не умеет правильно выразить свои мысли и чувства.
Жертва — это не только передача материальных средств, но еще и участие в общем деле. Некоторые рассуждают так: если храм богатый, то на него не надо жертвовать. Конечно, храм будет стоять — Бог найдет способ помочь ему. Но если я прихожанин этого храма, то мне обязательно захочется что-то сделать именно для него.
Вот поучительный пример из жизни. Один прихожанин нашего храма, оказавший приходу огромную материальную помощь, как-то попросил меня отслужить молебен. Я отслужил, он мне дает деньги. Я говорю: «Ну, что Вы? Какие деньги?» Он говорит: «Нет, я хочу пожертвовать». Человеку приятно было своими руками передать жертву на храм, а не только организовать финансирование некоего церковного проекта.
Можно здесь вспомнить афонскую практику. После завершения последования третьего часа, священник звонит в колокольчик, и все в храме, в полной тишине, поминают своих близких о здравии, а священник вынимает частицы непрерывно. Затем еще один «звонок» — начинается поминовение усопших, наконец, после третьего звонка поминовение завершается, а чтец начинает шестой час.
А как на счёт тетрадей (синодиков) для поминовения, а записки для тех, кто заходит редко или просто по случаю мимо…
Такие тетради обычно периодически переносят из Алтаря в лавку для добавления новых имён и обратно.
Если взять во внимание Писание (а простые образы, данные Богом через Моисея, помогают вникнуть в вещи неудобопонимаемые), то от человека, который приходит в храм помолиться, требуется жертва: ««И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками» (Втор. 16:16).
Так что, реляции о бесплатных требах воздают честь личности самого настоятеля, как бессребреника, но не самой вещи — Богослужение.
В прежние времена, всякую принесённую жертву священник заколал, кровь выливал, а остальные части распределялись по чину жертвы в зависимости от намерения приносящих. В этих действиях видна наша современная проскомидия.
Другими словами, проскомидия должна совершаться за каждое имя, внесённое в алтарь.
И на практике это выглядит так. У меня есть знакомый батюшка; у него 5 детей. Когда я вынимал одну «частичку» за матушку со чадами, то потом частенько меня просили молиться о болящих детях. Как только я стал вынимать за каждого ребёнка, тут же просьбы прекратились. Небольшие редкие простуды — не в счёт.
Господь, в чьих руках «ключи (от) ада и смерти «(Отк. 1:18), через жертвоприношение (проскомидию) отодвигает Свой суд над человеком, прощая грехи рукою священника.
Один яркий пример. Женщина постоянно подавала записки о своей сестре. Та с благодарностью принимала заботу о себе, но в храм ходить отказывалась: «Ты за меня молишься, а мне некогда». В какой-то момент женщина не смогла подать записку, и сестра скоропостижно скончалась. Во сне, в постели.
Другое дело — личная молитва праведника без жертвоприношения (условно, конечно, т.к. сама жизнь праведника — это жертва Богу).
В этом случае, например, пророк молитвами избавляет народ от руки иноплеменников (Самуил; 1Ц, 7:8), исцеляет от проказы (Елисей; 4 Ц, 5:10) и пр., что облегчает путь человека к праведности, в современном мире — к Царствию Небесному.
Личная молитва имеет другое назначение, если угодно, другую силу, хотя и не отменяет жертву умилостивления. Святой Иоанн Кронштадтский своей жизнью, своей жертвой обрел от Бога силу молитвы, силу чудотворения. И он мог по своему произволению исцелять, творить чудеса и не читать записки, просто перекрестив их.
Не у всех такая сила есть. И пономарь, просматривающий записки михоходом, уж точно такой силы не имеет. О «пользе «подобной «молитвы» никто не слышал? Вреда бы не было.
Существенный момент — вера того, о ком совершают проскомидию. Если человек в принципе не отрицает возможности спасения во Царствии Отца нашего, понятно, крещёный, но не Причащается, то мы не отказываем в молитве (на проскомидии). Господь в сердце Сам «постучится» и выведет на истинный путь. Случай — из опыта.
Отказываем в молитве тем, кто крест не носит. Таким предлагаем, прежде, изучить основы веры и отказаться от неправды в их жизни. Личная неправда препятствует благодати войти в сердце человека, сколько за него не молись.
Интересно, об этом Церковь говорит немного иначе, если имеется в виду поминание на Проскомидии, когда в конце Литургии эти частицы высыпаются в потир с Кровью Христовой с молитвой: «отмой, Господи, грехи поминавшихся здесь …», (есть ли какая иная молитва в это время — для понамарей ли или еще для кого, мне не известно).
Итак —
mospat.ru/church-and-time/302 — архп. Серги Страгородский — о частицах, винимаемых на проскомидии — «Частица вынутая за кого-либо живого или умершего, потом должна лежать на дискосе вместе со Св[ятыми] Дарами, во время освящения последних и потом погружается в потир и, вместе с Телом Христовым, напаяется Его Кровию. Чрез это поминаемые делаются причастниками Св[ятых] Тайн и пользуются плодами такого причастия. Таким образом, если поминовение на проскомидии не пустая проформа, никому ничего не приносящая, то поминать за проскомидией инославных значит допускать их до евхаристического общения, что возможно только после их присоединения к Церкви.»
свт.Симеон Солунский и ссылавшийся на него прп. Паисий Величковский
(прот.Сергей Четвериков — «Молдавский старец Паисий Величковский …» — refdb.ru/look/1235312-pall.html) называет это заочным причастием Святых Таин.
прп.Лев Оптинский «Душеполезные поучения Оптинских старцев» Письмо № 207: «О поминовении на проскомидии справедливо вам говорит духовная особа, что не должно поминать явно грешников, пребывающих в нераскаянии, в заблуждении и расколах; по толкованию учителей церковных — через соединение частиц, вынутых за их имена, с Божественною Кровию, — не очищение, но осуждение для них бывает. О грешниках же, но кающихся и полагающих начало, можно и молиться, и подавать на проскомидию, также поминать на молитве и обращении их можно, как и Церковь молит о соединении всех, однако ж, дабы с такою разборчивостью не подпасть бы вам фарисейскому мудрованию, подавайте на проскомидию о ближних ваших, известных вам; а о прочих молися вообще, и в мысли стараясь считать всех святыми (впрочем, не подражая делам их худым), любовь свою каждому делами при случающихся обстоятельствах. Это будет надежнее, а то и в том и в другом случае опасно, избежать фарисейского мудрования и о себе мнения»"
Если же поминаются неизвестно кто — как в заупокойных, так и в записках о здравствующих (а не о здравии), то по слову 33му прп. Симеона Нового Богослова: «Горе священнику, который преподает таковому Божественные Тайны, горе и ему, причащающемуся их. Горе причащающемуся, потому что, причащаясь после срамных дел, не очищенных покаянием и епитимиями, он все больше и больше подпадает власти диавола, а наконец и совсем им завладевается; и Бог совершенно оставляет такого за его срамность и нечистоту, и особенно за его бесстыдство и дерзость, как пишет Святое Евангелие об Иуде, что как только причастился он поданного ему Христом Господом хлеба, сей божественной вечери, тотчас по хлебе вниде в онь сатана (Ин.13:27). Горе священнику, причащающему его, что удостоивает причастия недостойного и преподает пречистое Тело и честную Кровь Христа Спасителя тому, кто недостоин даже преступать порога храма Божия, с кем запрещено вместе вкушать и простую пищу всякому христианину, как законоположил святой Апостол Павел, говоря: аще некий брат именуем будет блудник, или лихоимец, или идолослужитель, или досадитель, или пияница, или хищник, с таковым ниже ясти (1Кор.5:11). Видишь, что поистине даже не брат христианам такой человек, а только именуется так.
Преподающий такому Тайны праведно подлежит осуждению, и за то, что чрез это он человека, грешащего по уклонению от правого помысла и по легкомысленной небрежности, делает совершенным врагом Богу.»
История возникновения поминальных записок наверное уходит дальше, чем тяжелые финансовые времена — тогда, когда христиане горели желанием приобщиться Христовых тайн, но по каким-либо причинам не могли быть в церкви. Сюда можно добавить и женщин, которым в их критические дни Церковь возбраняет участие в Евхаристии —
2е св. Дионисия Александрийского;
7е св. Тимофея Александрийского; но не запрещают молиться в храме.
Общеобязательность этих правил утверждена 2 м правилом 6го Вселенского собора. За нарушение этого правила полагается 40 дней епитимия по 28му правилу св. Иоанна Постника.
По поводу финансовой составляющей — десятину Господь не отменял. Как в Ветхом завете она была, так и в Новом есть. В 7й главе послания к евреям упоминается эта заповедь. А вот ценники в храмах нигде не упоминаются. Если учить людей жить по заповедям (включая Евхаристию и десятину), то эти благодарные о своем спасении и важности участия в Таинствах люди не дадут бедствовать ни храму, ни епархии ни клиру. Ну и каноны будут соблюдены.
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
или
 Митрополит Константин (Островский), Йоханнесбург
Митрополит Константин (Островский), Йоханнесбург
Вопрос молитвы о некрещённом родственнике трудный, потому что никаких... Продолжение
 Епископ Антоний (Азизов), Волгодонск
Епископ Антоний (Азизов), Волгодонск
 Протоиерей Феодор Бородин, Москва
Протоиерей Феодор Бородин, Москва
 Протоиерей Владимир Воробьев, Москва
Протоиерей Владимир Воробьев, Москва
.jpeg)




















.jpeg)





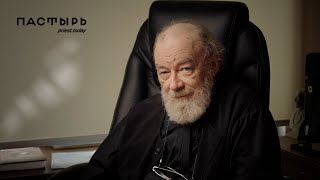






.jpg)
